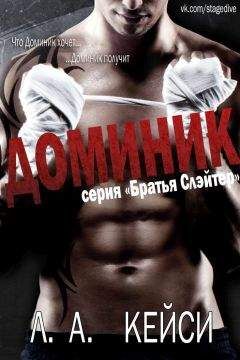Чак Паланик - Колыбельная [litres]
Элен поднимает Патрика на вытянутых руках. Ее ребенок, холодный и синий, как фарфоровая кукла. Замороженный и хрупкий, как стекло.
Она швыряет мертвого ребенка через всю комнату. Он ударяется о стальной ящик, падает на пол и вертится на линолеуме. Патрик. Одна замороженная рука при падении отламывается. Патрик. Вертящееся тельце задевает об угол ящика, и ножки тоже отламываются. Безрукое и безногое тело, сломанная кукла – оно ударяется головой о стену, и голова отлетает тоже.
Элен подмигивает и говорит:
– Да ладно тебе, папаша. Не льсти себе.
И я говорю: будь ты проклят.
Устрица занимает Элен, как армия – павший город. Как сама Элен – Сержанта. Как наше прошлое, СМИ и самый мир занимают тебя.
Элен говорит, Устрица говорит ртом Элен:
– Мона давно знала про гримуар. С того дня, как только увидела мамочкин ежедневник. Она сразу все поняла. – Он говорит: – Просто не могла его перевести.
Устрица говорит:
– Мое дело – музыка, а Монино… Монино дело – глупость.
Голосом Элен он говорит:
– Сегодня вечером Мона очнулась в каком-то салоне красоты, за столиком маникюрши, которая красила ей ногти розовым. – Он говорит: – Она вернулась в контору взбешенная и обнаружила, что миссис Бойль лежит лицом вниз на столе, вроде как в коме.
Элен вдруг всю передергивает, и она хватается за живот. Она говорит:
– На столе перед миссис Бойль лежал гримуар, открытый на странице с переводом заклинания временного захвата чужого тела. Как оказалось, все заклинания были переведены.
Она говорит, Устрица говорит:
– Благослови, Боже, мамочку и ее страсть к кроссвордам. А ведь она где-то есть. Наверное, злая как черт.
Устрица говорит ртом Элен:
– Увидишь мамочку, передавай ей привет.
Хрупкая синяя статуэтка, замороженный ребенок разбит на кусочки. Осколки ребенка – среди осколков драгоценных камней: отломанный пальчик, отбитые ножки, расколотая головка.
Я говорю: то есть теперь вы с Моной поубиваете всех и станете новыми Адамом и Евой?
Каждое поколение хочет быть последним.
– Не всех, – говорит Элен. – Нам понадобятся рабы.
Он задирает юбку окровавленными руками Элен. Хватает себя за интимное место и говорит:
– Может, вы с мамочкой что-нибудь учудите по-быстрому, пока она не скопытилась?
И я отталкиваю от себя тело Элен.
Все мое тело болит. У меня никогда ничего не болело так сильно, даже нога.
Элен тихонько вскрикивает и сползает на пол. Ложится, свернувшись калачиком на холодном линолеуме среди осколков драгоценных камней и Патрика, и говорит:
– Карл?
Она подносит руку ко рту и чувствует осколки камней, застрявшие в деснах. Она поворачивается ко мне и говорит:
– Карл? Карл, где я?
Она смотрит на ящик из нержавеющей стали, видит разбитое стекло. Сначала она видит только отбитую ручку. Потом – ножки. Потом – головку. И говорит:
– Нет.
Брызжа кровавой слюной, Элен говорит:
– Нет! Нет! Нет!
Из-за сломанных зубов ее голос звучит невнятно и глухо. Она ползет по острым осколкам цветных камней и собирает кусочки. Заливаясь слезами, вся в желчи и крови, в комнате, где уже начинает совсем неприятно пахнуть, она собирает синие осколки. Крошечные ручки и ножки, тельце, расколотую головку – она прижимает их к груди и кричит:
– Патрик! Патти!
Она кричит:
– Мой Патти-Пат-Пат! Нет!
Целуя расколотую синюю головку, прижимая ее к груди, она спрашивает:
– Что происходит? Карл, помоги мне. – Она смотрит на меня, но тут спазм в желудке сгибает ее пополам, и она видит пустую бутылку из-под жидкости для прочистки труб.
– Господи, Карл, помоги мне, – говорит она, укачивая на руках обломки своего ребенка. – Скажи мне, пожалуйста, как я здесь оказалась!
И я подхожу к ней, обнимаю ее и говорю: поначалу новые хозяева делают вид, что не смотрят на пол в гостиной. То есть особенно не приглядываются. Не тогда, когда смотрят дом в первый раз. И не тогда, когда перевозят вещи. Они измеряют комнаты, распоряжаются, куда ставить диваны и пианино, распаковывают коробки, и во всей этой суете у них не находится времени, чтобы посмотреть на пол в гостиной. Они делают вид.
Элен наклоняется к Патрику. У нее изо рта течет кровь. Руки у нее слабеют, и маленькие пальчики сыплются на пол.
Сейчас я останусь один. Это моя жизнь. И я даю себе слово, что – не важно, где и когда – я найду Устрицу с Моной.
Что хорошо – это займет меньше минуты.
Это старая песенка про зверей, которые ложатся спать. Песенка грустная и сентиментальная, и лицо у меня горит от окисленного гемоглобина, когда я читаю стихотворение вслух под яркой лампой дневного света, держа в объятиях обмякшее тело Элен, прислонившись спиной к стальному ящику. Патрик, испачканный моей кровью, испачканный ее кровью. Ее губы слегка приоткрыты, ее сверкающие зубы – настоящие бриллианты.
Ее звали Элен Гувер Бойль. У нее были голубые глаза.
Моя работа – подмечать все детали. Оставаться бесстрастным наблюдателем. Моя работа – не в том, чтобы чувствовать. Моя работа – писать репортажи.
Это называлось «баюльной песней». В некоторых древних культурах ее пели детям во время голода или засухи. Или когда племя так разрасталось, что уже не могло прокормиться на своей земле. Ее пели воинам, изувеченным в битве, и смертельно больным – всем, кому лучше было бы умереть. Чтобы унять их боль и избавить от мук.
Это – колыбельная.
Я говорю: все будет хорошо. Я сжимаю Элен в объятиях, укачиваю, как ребенка, и говорю ей: теперь отдыхай. Спи. Я говорю ей: все будет хорошо.
Глава сорок четвертая
Когда мне было двадцать, я женился на женщине по имени Джина Динджи и думал, что это теперь моя жизнь. Навсегда. Через год у нас родилась дочка, и я думал, что это теперь моя жизнь. Навсегда. Потом Джины и Катрин не стало. А я сбежал и стал Карлом Стрейтором. Я стал журналистом. И это была моя жизнь на протяжении двадцати лет.
А потом… вы уже знаете, что случилось потом.
Я не знаю, сколько времени я держал в объятиях Элен Гувер Бойль. А потом это была уже не она, а просто мертвое тело. Кровь у нее давно уже не текла. Но зато осколки Патрика у нее в руках оттаяли и начали кровоточить.
Потом снаружи раздались шаги, и дверь в палате № 131 открылась.
Я так и сижу на полу, обнимая мертвых Элен и Патрика, и дверь открывается, и в палату заходит седой коп-ирландец.
Сержант.
И я говорю: пожалуйста. Пожалуйста, посадите меня в тюрьму. Я признаю свою вину. Во всем признаюсь, во всем. Я убил жену. Я убил своего ребенка. Я – Вальтруда Вагнер, Ангел смерти. Убейте меня, чтобы мы с Элен опять были вместе.
И Сержант говорит:
– Надо скорей убираться отсюда. – Он проходит через палату к стальному ящику. Достает из кармана блокнот, что-то пишет, вырывает листок и протягивает его мне.
Его морщинистая рука вся в родинках. Волосы на руке тоже седые. Ногти – желтые и заскорузлые.
«Простите меня, но я не могу больше жить, – написано на листке. – Я иду к сыну. Теперь мы вместе».
Это почерк Элен. Тот же почерк, что и в ее ежедневнике, в гримуаре.
Подписано: «Элен Гувер Бойль», ее почерком.
Я смотрю на мертвое тело у меня в руках, все в крови и зеленой блевотине от жидкости для прочистки труб, потом смотрю на Сержанта, который стоит надо мной, и говорю: Элен?
– Во плоти, – говорит Сержант, говорит Элен. – Ну, не в своей плоти, а так – да, конечно, – говорит он и смотрит на тело Элен у меня в руках. Потом опускает глаза на свои старческие руки и говорит: – Ненавижу готовое платье, но на безрыбие и рак рыба.
Вот так и вышло, что мы снова в дороге.
Иногда я опасаюсь, что Сержант – это на самом деле Устрица, который прикидывается Элен, занявшей тело Сержанта. Когда мы с ней спим – кто бы это ни был, – я делаю вид, что это Мона. Или Джина. Так что в итоге все уравновешивается.
По словам Моны Саббат, люди, которые увлекаются выпивкой или обжорством, люди, подсевшие на наркотики и зацикленные на сексе, – на самом деле ими управляют духи тех, кто при жизни любил всякие непомерные удовольствия и не может остановиться даже теперь, после смерти. Пьяницы и клептоманы – все они одержимы бесами, злыми духами.
Мы все – медиумы от культуры. Мы все – чьи-то призраки.
Есть люди, которые все еще верят, что они управляют своими жизнями.
Мы все одержимы.
У каждого в жизни есть кто-то, кто никогда тебя не отпустит, и кто-то, кого никогда не отпустишь ты.